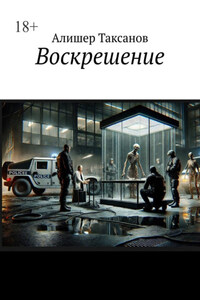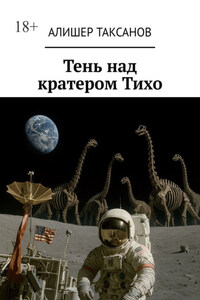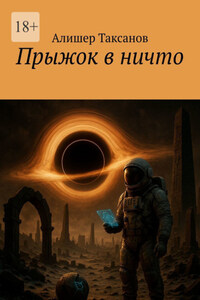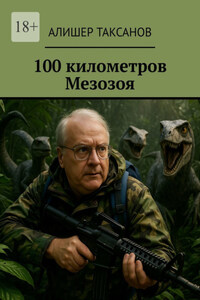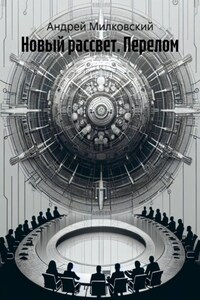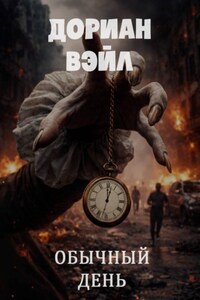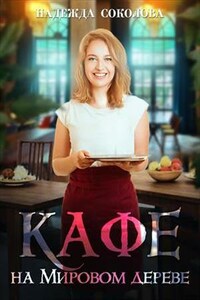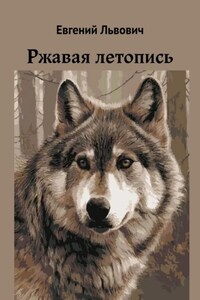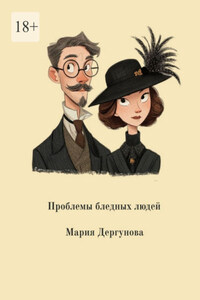Ловцы за сцерцепами
(фантастический рассказ)
Линия горизонта извивалась, как сжатая в нервном нетерпении змея, что рвалась куда-то прочь, но никак не могла уползти. Неискушённому путнику могло показаться, будто у него мутнеет в глазах или опьянённый мозг рисует зыбкий мираж: линии дрожат, предметы становятся мягкими, колышутся, будто плавятся, а небо медленно льётся в песок. Но на самом деле всё было проще и страшнее: горячий воздух, тяжёлый, как расплавленная смола, поднимался с раскалённых дюн плотными, тягучими столбами и искажал реальность. Сквозь эти волны мир казался прозрачным, как стекло, и столь же коварным: камни выглядели озёрами, тень – прохладой, а оазис – спасением, которое рассыпается в мираж, стоит лишь сделать шаг.
Иначе быть не могло – пустыня Эску, хоть и не столь известная, как Гоби, Сахара или Каракумы, по размеру почти не уступала им и таила в своих песчаных недрах немало ловушек для беспечных путников. Днём воздух дрожал от зноя, и стрелка термометра редко опускалась ниже сорока пяти градусов. Песок обжигал босую кожу, металл мгновенно нагревался до состояния, когда им можно было прижигать раны. Выжить здесь в одиночку было невозможно: даже караваны, отважные и привычные к лишениям, предпочитали обходить Эску стороной, как заколдованный остров, затерянный в океане барханов.
Местные бедуины с почтительным страхом говорили, что Эску проклята самим Аллахом, и правоверным не следует соваться туда, где не благословлена земля. Те, кто ослушивался, не возвращались: может, погибали от нестерпимой жары, может, от ветров, что поднимались внезапно и били песком в лицо так, что дыхание становилось болью, а каждая глотка воздуха – испытанием. Бывали такие бури, что песчинки, врезаясь в кожу, оставляли кровавую россыпь; лёгкие, переполненные ими, горели, словно их наполнили тлеющими углями. Голод и жажда здесь шли рука об руку с обманом миражей, и когда силы покидали путника, иссохшее тело мягко заглатывали барханы, скрывая всякий след, будто и не ступала здесь человеческая нога. Это ещё не считалось страшной смертью: пустыня знала иные, куда более жестокие способы – о них шёпотом говорили у костров.
Самым страшным наказанием для совершившего проступок считалось изгнание в Эску. Виновный, бледный и дрожащий, молил о том, чтобы ему отсекли руку или ногу, но не посылали туда, где нет прощения ни живым, ни мёртвым. Считалось, что само имя пустыни – шёпот духов, а пески – не просто песок, а высохшие души тех, кто в ней пропал. У очагов и костров, в длинные ночи, когда делать было нечего, люди пересказывали друг другу эти истории: одни – как предостережение, другие – чтобы пощекотать себе нервы. В эти часы дети жались к матерям, а старики с сухими, потрескавшимися губами медленно рассказывали легенды – о караванах, ушедших под песок, о чёрных тенях без следа, о голосах, что зовут по имени в ночной тьме. Молодые танцовщицы выводили неторопливые движения бедрами, создавая узор, будто песчаные волны, мужчины жарили мясо ягнёнка или верблюда, посвятив трапезу Аллаху, а над всем этим шёл упрямый, солёный, сухой ветер, в котором звенел смех пустыни – тихий, но вездесущий, как дыхание обречённых.