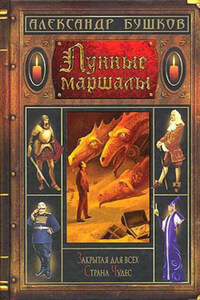Зала Сивудского аббатства была залита солнцем, ибо стены ее являли почти сплошной ряд окон, выходящих в сад, уступами спускающийся к парку и освещенный чистым утренним светом. Оливия Эшли и Дуглас Мэррел, почему-то прозванный Мартышкой, спешили использовать свет для живописи, она – для очень мелкой, он – для размашистой. Оливия тщательно выписывала нежные тона, подражая заставкам старинных книг, которые очень любила, как и вообще любила старину, хотя представляла ее себе довольно смутно. Мэррел, верный современности, обмакивал в ведра с яркими красками огромные, как швабра, кисти и ударял ими по холсту, которому предстояло стать задником любительского спектакля. Ни он, ни она рисовать не умели, и знали это, но она хотя бы старалась, а он – нет.
– Вот вы говорите, диссонансы, – рассуждал Мэррел почти виновато, ибо Оливия не отличалась благодушием. – А ваша манера сужает кругозор. В конце концов, задник – та же заставка под микроскопом.
– Ненавижу микроскопы, – отрезала Оливия.
– Однако вам без них не обойтись, – возразил Мэррел. – Для такой мелкой работы вставляют в глаз лупу. Надеюсь, вы до этого не дойдете. Лупа вам не к лицу.
С этим трудно было спорить. Оливия Эшли была хрупкой девушкой с тонким лицом, а изысканное изящество ее зеленого платья отвечало кропотливой строгости занятий. Несмотря на свою молодость, она немного напоминала старую деву. Рядом с Мэррелом валялись тряпки, клочки бумаги и ослепительные образцы неудач, но ее краски и кисточки были разложены в идеальном порядке. Не для нее вкладывали наставления в коробки с акварелью, и не ей приходилось говорить, что кисточку не суют в рот.
– Вы меня не поняли, – сказала она. – Вся ваша наука, весь этот нынешний стиль уродуют и людей, и вещи. Смотреть в микроскоп – все равно что смотреть в сточную яму. Я вообще не хочу смотреть вниз, оттого я и люблю готику. Там все линии стремятся ввысь и указывают на небо.
– Указывать невежливо, – сказал Мэррел. – И потом, могли бы положиться на нас, небо и так видно.
– Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, – отвечала Оливия, трудясь над рисунком. – Самая суть средневековых людей выразилась в их соборах, в острых сводах.
– И в острых копьях, – кивнул Мэррел. – Если вы что-нибудь делали не так, вас протыкали насквозь. Чересчур остро на мой вкус. Острей остроты.
– Они сами кололи друг друга, – возразила Оливия. – Они не сидели в креслах, пока ирландец бьет чернокожего. Ни за что не пошла бы на бокс! А дамой на турнире стала бы…
– Вы были бы дамой, но я не был бы рыцарем, – печально сказал Мэррел. – Не судьба. Родись я королем, меня утопили бы в бочке. Нет, я родился бы крепостным, или как их там… А может, прокаженным… В общем, кем-нибудь таким, средневековым. Только бы я сунулся в тринадцатый век, меня приставили бы главным прокаженным к королю, и я глядел бы в церковь через такое окошечко, как на вашей картинке.