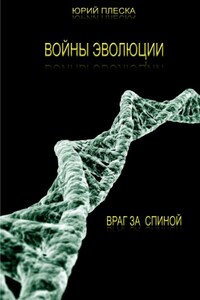Вечерами, когда пурпурные полосы гибнущего солнца цепляются за взъерошенные кроны Чернолесья, тени в углах хижины меняют очертания – и ты замираешь, не решаясь зажечь огонь. Старая мать говорила: есть в лесу такие места, что даже ворон боится там каркать; и если услышишь, как зовёт тебя кто-то знакомым голосом из-за ручья – не отвечай, молчи, уходи прочь.
Я помню ту последнюю ночь, хрупкую, как дыхание в морозном стекле. Дым медленно полз вдоль балок, смешиваясь с горечью полыни, а за окном лил дождь – так часто у нас прощаются. Мать лежала, глядя не в лицо мне, но сквозь меня, туда, где ветвистые тени ползли по стенам, обнимая скрипучий сруб.
– На заре, – выдохнула она, и её ладонь вновь стала жёсткой и сухой, как земля у речного обрыва, – не смей идти в Чернолесье под серой луной.
Перед глазами стоял огонь, а где-то вдалеке стучали копыта – будто в такт её обрывистому дыханию.
Детство моё было сборником предупреждений: не касайся воды у ведьмова болота, не смотри долго на трещины сваи, не принимай угощения из рук тех, кто не имеет тени. В каждом её слове были занозы страха, и в каждом взгляде – нескончаемое ожидание беды. Порой по ночам я слышала, как лес скребётся в окна, ворочаясь тяжко, будто зверь, ищущий лазейку в человеческое жилище. Я училась читать знаки – уронишь булавку в воду: если круги уходят к лесу, жди весной беды, если к дому – бедняки заболят.
Но ни одно заклинание, ни одна нитка красной шерсти, заткнутая за косяк, не смогли удержать ту, что сползала в сумрак. Ночью, когда дождь стих, а мать с трудом поднялась на локтях, я услышала: сквозь сон, сквозь смирение, через столетние доски – зовущий голос, тот самый, который я когда-то не разучилась бояться.
Мать взяла мою руку, кожей своей старой, узловатой, будто корень, скользнула по костяшкам, и передала тяжесть – горькую, ломкую, непрошеную. Я чувствовала это не как дар, но как бремя: ледяное дыхание, прошедшее по венам, по нервам, по трещинам памяти.
– Теперь ты, – сказала она, вглядываясь всё в ту же полумглу и не в меня вовсе, – теперь ты смотри.
Я пыталась возразить, но за стенами уже сгущался туман; и в нём, казалось, гуляли тени.
Тени древнего заговора, склонившиеся над нашим родом, как чёрные гроздья над спящим. Я знала: этот мир сломан и сшит по живому, шрамы прячутся под листьями, а клятвы вечно крутятся в ветвях.
И в ту ночь, когда мать ушла, игла прежде всего уколола меня: не страх, но знание. В каждой тени Чернолесья был ядовитый орнамент потерянных судеб, и моя тропка уже обозначена – меж болотных огней, меж костяных судеб, к самой тьме, что смотрит из глубины.