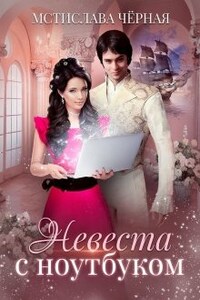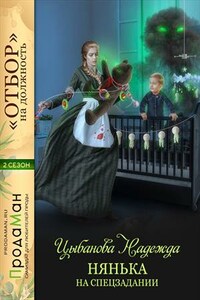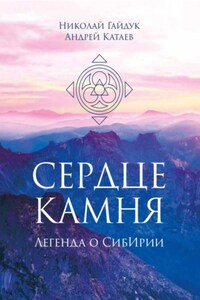1. 1
— Пустоцвет.
Слово, холодное и острое, как осколок льда, вонзилось в мучительный, вязкий туман, что клубился в моей голове. Оно не просто прозвучало — оно просверлило себе путь сквозь гудящую боль, выдергивая меня из липкой, обволакивающей темноты, в которой было так обманчиво спокойно.
— Год, Оливия. Я дал тебе год.
Голос. Глубокий, рокочущий, с бархатными, но стальными нотками. От такого голоса, будь я на сорок лет моложе, по коже побежали бы мурашки совсем иного толка. Но сейчас он был лишь источником боли, молотом, бьющим по наковальне моего сознания. Голос, привыкший не просить, а повелевать.
— Целый год, чтобы ты исполнила свой единственный долг.
С неимоверным усилием, словно поднимая могильные плиты, я разлепила веки. Ресницы склеились, во рту стоял отвратительный горько-кислый вкус, а голова раскалывалась так, будто в ней всю ночь гуляла бригада строителей с отбойными молотками.
Комната тонула в сером предрассветном сумраке. Высокие стрельчатые окна, занавешенные тяжелым бархатом, пропускали лишь скупые полосы света. Все плыло и качалось, как палуба корабля в шторм. Все, кроме одной фигуры. Силуэт мужчины у дальнего окна был до ужаса, до невозможности четким.
Высокий, широкоплечий, словно высеченный из темного мрамора и сгустившегося гнева. Длинные, иссиня-черные волосы, чуть тронутые серебром на висках, были небрежно перехвачены на затылке простой кожаной тесьмой. Он стоял спиной ко мне, глядя на что-то за окном, и сама его поза излучала напряжение и холодную ярость.
Даже со спины он был красив. Красив хищной, беспощадной мужской красотой, от которой у девчонок замирает сердце и подгибаются колени. Эх, была бы я помоложе … Мысли путались, цеплялись одна за другую. Какой еще мужик? Я ведь… на дачу ехала. В стареньком ПАЗике. С рассадой помидоров…
— Я… — я попыталась подать голос, но из пересохшего, ободранного горла вырвался лишь сиплый, едва слышный хрип. Тело ощущалось чужим, ватным и совершенно беспомощным. Словно не мое. Я едва сумела пошевелить пальцами на тяжелом, прохладном шелке простыни.
— Молчи, — отрезал он, даже не удостоив меня поворотом головы. Его голос ударил, как хлыст. — Я уже все решил. Ты не смогла подарить моему роду наследника. А жена-пустоцвет мне не нужна.
Пустоцвет… Снова это слово. Так называли в деревне яблони, что пышно цвели каждую весну, но никогда не давали плодов. Красивые, бесполезные деревья. Мой первый муж, Колька, слесарь с вечно пьяными глазами, бросил мне в лицо такое же слово тридцать лет назад, когда врачи вынесли вердикт. А теперь… откуда оно здесь? В этом странном, до жути реалистичном сне?