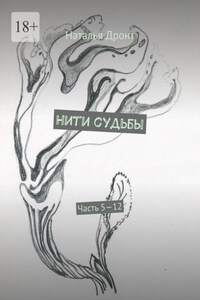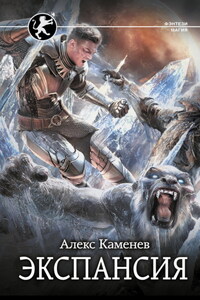В глубине леса в ложбине, прижавшись спиной к скале, поросшей вечнозелёным мхом, стоит хижина. Рядом, сквозь корни исполинского дуба-великана, сочится источник – вода в нём искрится едва уловимым серебристым светом даже в полдень. Воздух густой, пропитанный запахом хвои, влажной земли и древней магии. Мало кто решится жить здесь.
Топор Борена взмывал и падал с мёртвым, монотонным стуком. Тук. Тук. Тук. Каждое движение – выверенный механизм, лишённый ярости, лишь тяжёлая необходимость. Поленья, похожие на обломки его мира, раскалывались с сухим треском, разлетаясь щепками, которые тут же впитывала влажная земля. Его спина, широкая и сильная, бугрилась мышцами сквозь пропитанную потом старую льняную рубаху, но в глазах, устремлённых куда-то сквозь древесину, сквозь лес, сквозь время, стояла пустота. Глухая непробиваемая тараном стена.
Тишина леса казалась подавленной. Даже птицы пели как-то приглушённо, будто боясь нарушить тяжёлый покой, висевший над хижиной. Воздух казался густым, как смола, и каждый вздох Борена давался с усилием – глухой, протяжный стон, больше похожий на стон раненого зверя, чем на дыхание человека. Внутри бушевал ураган: ледяное море скорби, под которым тлели угли ярости и пучина отчаяния. Но на поверхности – лишь оцепенение, каменная маска на измождённом лице.
На грубо сколоченном столе, рядом с миской с объедками и ножом, стояла Она. Маленькая фигурка из светлого клёна, вырезанная с любовью и нежным мастерством. Линии платья, изгиб шеи, намёк на улыбку – всё было знакомо до боли. Поверхность статуэтки была отполирована до зеркального блеска бесчисленными прикосновениями больших, грубых пальцев. Это был не предмет – это был алтарь. Алтарь памяти, где горело неугасимое пламя утраты. Единственная ненужная для выживания вещь в этом убежище отчаяния.
Сама хижина – сруб из тёмных, смолистых бревен, прочный как скала, но внутри… Внутри царил беспорядок, тщательно игнорируемый. Пыль лежала толстым слоем на полках, кроме полки на которой обычно стояла статуэтка. Одежда валялась в углу. На гвозде у дверного косяка висел выцветший, тонкий платок с вышитыми незабудками – островок цвета в серости. Он колыхался при сквозняке, как призрак.
У холодного очага стоял второй стул – пустой, неуклюже отставленный в сторону, будто его обитательница лишь ненадолго вышла. На него никто не садился.