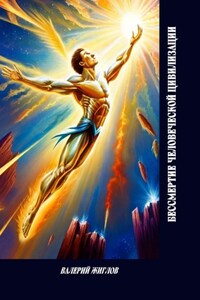Никто не предупреждал, что воскрешение – процедура столь гнусная и лишённая всякой торжественности.
Я рванулся из небытия, словно глубоководный ныряльщик, у которого опустели баллоны. Первый вдох дался как пытка. Воздух, сухой и колючий, ворвался в гортань с наждачным скрежетом, распирая слипшиеся лёгкие. Грудную клетку обожгло холодом, будто внутрь плеснули жидкого азота. В ушах стоял тонкий, сверлящий свист, переходящий в гулкое уханье крови, пробивающейся по застоявшимся сосудам. Тело отказывалось подчиняться. Нервы сигнализировали о беде всем сразу – ломотой в суставах, ледяной дрожью и дикой, звериной жаждой. Однако мозг уже щёлкнул тумблером: «Ты мыслишь, следовательно, отставить паниковать. Пока работает насос, мы держимся в воздухе».
Второе ощущение накатило волной удушья. На лице, на веках, на губах лежала плотная, омерзительная плёнка. Она прилегала герметично, пропуская кислород лишь крохотными порциями. Это напоминало кошмарный сон эпилептика. Кто-то невидимый и властный держал тёплую ладонь у моего рта, не давая набрать полную грудь.
Я попытался повернуть голову. Шея отозвалась скрипом несмазанных шарниров. Мышцы, привыкшие к перегрузкам и мгновенным реакциям, стали ватными и чужими, словно налитыми свинцовой тяжестью, какая бывает после общего наркоза или недельной лихорадки. Я поднял руки, и пальцы предательски дрогнули.
А ведь как мои руки уверенно управляли… Чем? Летательный аппарат… Вертолёт! Я вспомнил это как мышечный рефлекс, въевшийся в подкорку. Мои пальцы знали, что такое держать многотонную винтокрылую машину, когда небеса решают, что тебе не место в воздухе.
Память услужливо подбросила ощущение шершавой поверхности рукоятки под перчаткой. Правая рука намертво срослась с ручкой управления циклическим шагом винта – продолжение моей воли. Левая лежала на рычаге «шаг-газ», чувствуя каждое изменение оборотов, каждое дыхание турбины, готовая рвануть вверх или прижать машину к земле. Не работа – симбиоз с боевой машиной. Боевой?
Я вспомнил тот заваливавшийся горизонт, плясавший дикую пляску. Машину бросало под немыслимыми углами. Штормовой ветер швырял вертолёт, как пустую пивную банку, а снизу, сквозь пелену дождя, к нам тянулись злые росчерки трассеров. Мой мир сужен до показаний приборов и дрожи машины. Жизни экипажа, груз, сама стальная птица, я сам – всё висело на кончиках моих пальцев. И тогда, руки не дрожали.
Я поднял кисть перед лицом. Она тряслась, как у глубокого старика или у горького алкоголика. Пальцы подрагивали, живя своей отдельной жизнью. Да и мои ли это руки?