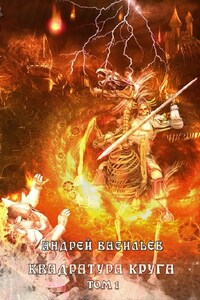Глава 1. Волчий Дар
Лес был не просто скоплением деревьев; он был живым существом, древним и мудрым. Он не дышал, как зверь – с шумом и перерывами, – а скорее пребывал в вечном, размеренном движении, подобно духу. Воздух, что струился меж сосен, был напоён запахами – хвои, прелой листвы, гниющей коры и чего-то ещё, глубокого и скрытного, что таилось под корнями и вековым мхом. Этот ветер не просто шелестел – он вещал. Слышать его дано было немногим. И Дарина слышала.
Ей минуло двенадцать зим, не больше. Но глаза её были не детскими – старше времени, глубже, чем полагалось её возрасту. Цветом – как спелая черника, что вызревает на болотных кочках, куда не ступала нога чужого. Она знала лес не по тропам, а по его дыханию. Не по следам, а по сменяющимся теням. Её дед, лесник из рода Бобра, чьи предки испокон веку жили на краю чащи, учил: «Лес – не пустота меж стволов. Лес – живой. Он видит. Он помнит. Он выбирает, с кем говорить, а кого и слопать».
Сегодня лес выбрал не её. Но она – его, безраздельно и навсегда.
С опушки, с той кромки, где паханая земля деревни Березовый Бор упиралась в древний, дикий лес, донёсся шум. Не праздничный гомон, не песни – а тревожный, рваный гул. Металлический лязг, приглушённые крики, отрывистый лай псов. Люди. С железом в руках. Железо – не дар лесных духов, не благо. Оно режет не только плоть, но и саму связь с миром, тонкие нити, что тянутся от всего живого к сердцу Матери-Земли. Железо глушит голоса навьев и берегинь, заставляет духов отшатнуться и уйти вглубь. Потому-то оно – в руках воинов, а не ведающих.
Дарина замерла за буреломом, в прохладной тени упавшей сосны, что вся поросла седым, как старческая борода, мхом. Лукошко её, туго набитое поздними ягодами – костяникой, румяной брусникой, горьковатой черникой, – стояло у корней, позабытое. Она не дышала, вобрав в себя весь воздух, и смотрела, вжимаясь в землю.
И вот из чащи, раздвинув лапником, выскочила волчица.
Не просто зверь. Не просто хищник. В ней чувствовалось нечто большее. Шерсть на боку и ляжке была пропитана кровью – тёмной, запекшейся, почти чёрной, будто её полили дёгтем. Передняя лапа безвольно повисла, сломанная, вероятно, метким ударом копья или стрелой из тугого лука. Но пасть её была сомкнута. И в ней, зажатый аккуратно, будто драгоценность, лежал свёрток. Грубый посконный плат, выцветший от солнца и дождей, пропахший овечьим молоком и дымом человеческого очага. А в плату том – младенец. Не плачущий. Не кричащий. Лишь тихо постанывающий, словно раненый птенец, выпавший из гнезда.