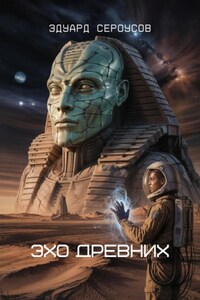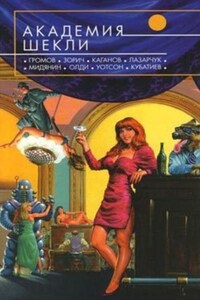Она проснулась от отсутствия.
Не от звука – звуки были на месте: трубы отопления тикали за стеной, в вентиляционной шахте что-то подвывало тонко и ровно, как забытый камертон. Не от холода – одеяло лежало привычно, косым коконом, который они каждый вечер делили по негласному договору: ей – верхний край, ему – нижний, и полоска ничейной ткани между ними, как демилитаризованная зона.
Она проснулась от того, что полоска расширилась.
Рука нашла пустое место на простыне. Ткань была ещё тёплой – но тёплой по-другому, не так, как бывает, когда человек рядом. Остаточное тепло. След, а не присутствие. Маре знала разницу, потому что для неё всё имело оттенки: тепло-рядом было медовым, густым, слегка оранжевым по краям; тепло-после – жёлтым, плоским, как засохшая акварель на подоконнике.
Она села в кровати. Часы на тумбочке мигали зелёным – 3:17. За окном спальни февраль лежал тяжело, вдавливая город в землю темнотой и той особой среднеевропейской сыростью, которая не замерзает до конца, а висит в воздухе студенистым серым веществом. Фонарь на углу дома напротив отбрасывал на потолок круглое пятно – она могла проследить его путь по трещинам штукатурки, как реку на карте, которая течёт из ниоткуда в никуда.
Тобиас.
Она не стала звать. Во-первых, она знала, где он – кухня, как всегда, когда не спалось. Во-вторых, его имя в три часа ночи прозвучало бы не как имя, а как вопрос, а Тобиас не любил вопросов в темноте. Вопросы для него были колючими – если бы он мог объяснить, он бы, наверное, сказал «как мокрая шерсть». Он не мог объяснить. Маре – могла. Маре могла объяснить что угодно, потому что для неё весь мир был одним бесконечным объяснением, сетью перекрёстных ссылок между чувствами и цветами, звуками и формами, словами и текстурами.
Концептуальная синестезия. Так это называлось в медицинской карте – сухо, по-латыни, с номером классификации. Но медицинская карта не объясняла главного: каково это – жить в мире, где слово «меланхолия» окрашено иначе, чем «грусть». Где «обожание» – не то же самое, что «любовь», не только по словарю, но и по цвету, по фактуре, по тому, как оно ложится на внутреннюю карту восприятия. «Меланхолия» – густой индиго с серебристыми прожилками, холодный, как камень на дне ручья. «Грусть» – ровный серый, как зимнее небо над равниной. Между ними – пропасть, целая вселенная различий, которую большинство людей не видят, а она не может не видеть.
Восемьсот сорок семь. Столько различимых оттенков эмоций она каталогизировала в своей книге – «Цвета смысла», изданной два года назад тиражом в четыре тысячи экземпляров и проданной тиражом в семьсот. Рецензенты называли её «поэтическим исследованием перцептивных границ». Тобиас назвал её «атласом твоей головы» – и это было точнее. Атлас внутреннего мира, где каждый остров назван, каждое течение нанесено на карту, каждый ветер имеет цвет и направление.