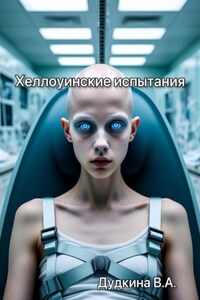Запах старого дерева, лака и чуть горьковатый аромат пыли был постоянным спутником Эвелины. Мастерская на первом этаже старого дома была её крепостью, её убежищем, её миром. Солнечный луч, пробиваясь сквозь высокое окно, подсвечивал взвесь золотинок в воздухе и падал на верстак, освещая изящный изгиб обечайки виолончели XVIII века.
Эва склонилась над инструментом, её тонкие, чувствительные к давлению и температуре пальцы медленно скользили по полированной поверхности. Глазами она видела каждую мельчайшую трещинку в лаке, узор древесных волокон, потертости, рассказывающие историю столетий. Но под кончиками пальцев – ровное, гладкое, безликое тепло. Ощущение было как от прикосновения к стеклу или идеально гладкому металлу – да, тепло, да, давление, но ничего о том, из чего сделан предмет, какая у него текстура. Дерево? Камень? Кожа? Для ее мозга, принимающего сигналы с периферии, это было неразличимо.
Тактильная агнозия. Красивое и страшное слово для состояния, которое отделило её от мира с самого детства. Она могла чувствовать боль, жар, холод, даже щекотку. Но прикосновение к шершавой коре дерева не говорило ей о шершавости, прикосновение к бархату не рассказывало о мягком ворсе. Мир текстур оставался закрытой книгой.
Это было особенно горько, учитывая её профессию. Реставрация древних музыкальных инструментов требовала не только гениального слуха – чтобы слышать малейшую фальшь в резонансе, улавливать дух звука, который должен вернуться – но и тончайшего чувства материала. Того самого чувства, которого у неё не было.
Но Эва компенсировала. О, как она компенсировала! Её зрение было невероятно острым, способным заметить микроскопические повреждения. Её слух – абсолютным, позволяющим "диагностировать" инструмент по звуку, который он издавал даже при легком постукивании. Она изучала материалы по книгам, схемам, химическому составу, полагаясь на логику и знания там, где другие полагались на интуицию прикосновения. И она была одной из лучших. Парадокс, который одновременно подтверждал её гениальность и подчеркивал её "дефектность".
Она взяла маленький скребок, чувствуя лишь холод гладкой деревянной ручки, и поднесла его к краю отслоившегося лака. Работа требовала хирургической точности. Дыхание замерло. Только глаза и абсолютный контроль над мелкой моторикой.
За окном просигналила машина. Эва вздрогнула, откладывая инструмент. Ей должны были привезти то, что директор музея назвал "редчайшим и, возможно, самым загадочным артефактом в коллекции". Что-то настолько старое и необычное, что даже он не был уверен в его происхождении. И что-то сломанное, почти безнадежное.