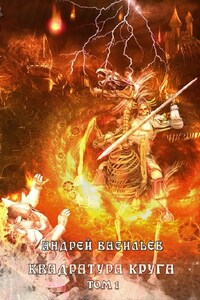Рассвет в степи был не милосердным пробуждением, а медленным, кровавым вскрытием раны на теле мира. Холодный, пронизывающий ветер, еще не утративший ночной злобности, гулял по бескрайнему морю ковыля, заставляя серебристые волны стенать протяжно и тоскливо. Он бил в лицо Адалару, впиваясь в кожу мелкими иглами, выдувая последнее тепло из уставших мышц. Он шел всю последнюю часть ночи, подгоняемый глухим предчувствием, тем самым внутренним толчком, что всегда предварял беду. Теперь он стоял на вершине невысокого холма, и предчувствие обернулось ледяной глыбой в груди.
Внизу, в ложбине, где издревле горел священный огонь его рода, где камни помнили клятвы и молитвы поколений, царило мерзость запустения.
Святилище было разгромлено.
Каменный алтарь, веками вобравший в себя дым жертвенных костров и тепло веры, лежал расколотый, как подкошенный великан. Темные глыбы, оторванные от единого целья, валялись в беспорядке, обнажая сырую, холодную землю под собой. Огонь погас. Вместо него – черное, мерзкое пятно кострища, еще дымившееся слабо, источая горький, едкий запах гари, смешанный с чем-то сладковато-тошнотворным – паленым волосом или кожей? Ветер швырял эту вонь Адалару в лицо, словно насмехаясь.
Тишина. Не священная тишина молитвы, а гнетущее, мертвое безмолвие после битвы. Без пения птиц, без стрекотания кузнечиков. Только вой ветра и шелест угнетенного ковыля.
Адалар спустился вниз. Каждый шаг отдавался глухим стуком в висках. Широкие плечи были напряжены до дрожи, сильная челюсть сжата так, что на скулах выступили белые пятна. Его темные, стальные глаза, обычно столь внимательные и спокойные, метали молнии. Он видел не просто разруху. Он видел осквернение. Глумление над самым сокровенным. Над тем, что было опорой его рода, его личным щитом перед лицом Бога и врагов.
Он подошел к развалинам алтаря. Рука в мозолистой перчатке непроизвольно потянулась к эфесу меча, но он сдержал порыв. Убийство – грех. Но как сдержать эту ярость, что клокотала в груди раскаленной лавой, угрожая сжечь изнутри? Как примирить веру, этот стальной стержень его души, с видом святыни, поверженной в грязь?
Он опустился на одно колено перед расколотым камнем. Снял перчатку. Пальцы, покрытые сетью мелких шрамов от тетивы и клинка, коснулись шероховатой, холодной поверхности. Ледяное прикосновение камня, пропитанного пеплом и отчаянием, пронзило его до кости. Он провел ладонью по сколу, ощущая резкую кромку. Здесь били. Били с ненавистью, стремясь не просто разрушить, но уничтожить саму память. Его пальцы нащупали темное, липкое пятно, впитавшееся в пористый камень. Кровь. Чья? Сторожа? Брата?.. Мысль о младшем брате, пропавшем как раз при охране святыни, вонзилась в сердце острой занозой. Боль, острая и жгучая, смешалась с яростью.